
Глава I. Путь к русской литературе
Начало пути
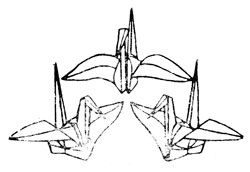
Литературный диалог России и Японии начался спустя два десятилетия после буржуазной революции Мэйдзи (1868). Но встреча для диалога могла состояться еще раньше. В 1853 году на фрегате "Паллада", направленном к берегам Японии с дипломатическими целями, находился уже хорошо известный в то время писатель И. А. Гончаров, участвовавший в экспедиции в качестве секретаря адмирала Путятина.
Желая выведать причины прихода русских, таможенные чиновники задавали только два вопроса: "Не привезли ли мы, - пишет Гончаров, - потерпевших кораблекрушение японцев, потом: не надо ли нам провизии и воды - две причины, которые японцы только и считали достаточными для иноземцев, что бы являться к ним, и то в последнее время"*. В этих условиях о литературных контактах не могло быть и речи. Гончаров не мог тогда и думать, что спустя три с небольшим десятилетия, в 1888 году, то есть еще при жизни писателя, японцы уже станут переводить его классические романы "Обломов" и "Обрыв"**. А годом раньше, в 1887 году, появится роман "Плывущее облако", и его автор Фтабатэй Симэй назовет того же Гончарова одним из источников, к которым он обратился при создании своего знаменитого произведения.
* (Гончаров И. А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3. М., 1953, с. 21.)
** (Отрывки из указанных романов Гончарова были переведены Фтабатэем, но не были опубликованы при жизни японского писателя. Они вошли в 4-й том Полного собрания сочинений Фтабатэя (Токио, 1913). Японский исследователь Савада Кадзухико в статье "Гончаров и Фтабатэй" (Ежегодник сравнительной литературы - Хикаку бунгаку нэнси. Токио, 1981, № 17) указывает, что эти переводы были сделаны Фтабатэем в 1888 г.)
Не слишком ли это поспешные всходы на столь скудной на первый взгляд почве? И как могли ужиться столь быстро две разнородные художественные культуры? И, главное, что, собственно, дало японцам освоение русской литературной традиции?
Нередко утверждают, что "открытие" Японии, состоявшееся в середине XIX века, было насильственным. Оно было действительно насильственным для токугавских феодальных правителей, заперших страну на замок. Но оно не было таковым для японцев, уже усомнившихся в том, что Япония - это центр земли. А таких было немало. В "Фрегате "Паллада" Гончаров пишет об одном из таких японцев: "Бедный, доживешь ли ты, когда твои соотечественники, волей или неволей, пустят других к себе или повезут своих в другие места? Ты, конечно, будешь из первых. Этот Нарабайоси 2-й очень скромен, задумчив; у него нет столбняка в лице и манерах, какой заметен у некоторых из японцев, нет также самоуверенности многих, которые совершенно довольны своей участью и ни о чем больше не думают. Видно, что у него бродит что-то в голове, сознание и потребность чего-то лучшего против окружающего его... И он не один такой. В этих людях будущность Японии и наш успех"*.
* (Гончаров И. А. Собр. соч., т. 3, с. 29.)
Но брожение умов началось гораздо раньше. При всей экономической и культурной отсталости в Японии во второй половине XVIII века уже созревают условия для зарождения ранней просветительской мысли.
В 1720 году был издан закон о разрешении ввоза "варварских" (то есть европейских) книг, преимущественно - из Голландии, по прикладным наукам (астрономии, медицине и т. д.). Изучение западной науки, осуществляемое "сверху", преследовало цель укрепления феодального государства. Так, Сакума Дзодзан - монархист, известный ученый-голландовед - и его сторонники рассчитывали быстро ликвидировать отсталость страны путем ввоза с Запада оружия, заимствования военных знаний, с тем чтобы, став на ноги, двинуться на Запад. Функции западной науки были строго ограничены: эта наука не должна касаться внутренней сути восточного человека. Западной философии человека Сакума Дзодзан противопоставил лозунг "Мораль Востока, техника Запада". Ввоз западной общественно-политической и художественной литературы по-прежнему находился под запретом.
Однако с картами и глобусами республиканские Нидерланды принесли в Японию и новые идеи. Расширение умственного кругозора способствовало постепенному освобождению японца от феодальных догм и средневековых предрассудков, он стал рассматривать себя в единении со всем миром. К тому же развитие естественных наук благоприятствовало становлению материалистического миросозерцания у японских мыслителей.
Опираясь на гелиоцентрическую теорию Коперника, ставшую известной в Японии в 1792 году, Ямагата Банто пишет знаменитый трактат "Сновидение" (1802-1820). С позиций "естественного закона", который движет миром, он подвергает критике не только средневековое суеверие, но и буддизм с его учением о потусторонней жизни, ставший существенным элементом японского мировоззрения с VI века.
В это же время другой приверженец учения Коперника Сима Кокан (1738-1818) запишет в дневнике: "Прожив 70 с лишним лет, я впервые узнал, что такое человек... У вселенной нет ни начала, ни конца. Рождается бесчисленное множество людей и среди них я - неповторимое, единственное я"*.
* (Цит. по: Итадзава Такэо. Нихон-то оранда (Япония и Голландия). Токио, 1955, с. 159.)
Новые веяния времени отразились и в просветительской сатире Андо Сёэки, и в повести Хирага Гэнная "Жизнеописание весельчака Сидокэна" (1763), которую нередко сравнивают с "Путешествием Гулливера" Свифта.
Кажется, общественно-философская мысль Японии на рубеже XVIII-XIX веков стремится осмыслить задачу, связанную сразу с двумя эпохами - Возрождения и Просвещения, - утверждение самоценности человеческой личности. На смену традиционным представлениям о бренности человеческого бытия приходит осознание объективной закономерности природы, осознание назревшей необходимости освобождения человека от многовекового феодально-сословного унижения.
Однако незрелость складывающихся буржуазных отношений и жесточайшая феодальная цензура обусловили крайне суженную базу для развития идей нового времени. Сугиура Мимпэй в книге "Литература накануне революции Мэйдзи" (1967) восклицает: "Если бы мы имели художественный вариант "Сновидения" Ямагата Банто!" Но его не было. В литературе первой половины XIX века господствовал жанр "гэсаку" - развлекательное чтиво, забавляющее публику, выставляя на смех глупого и ленивого от рождения крестьянина.
Хотя новая идеология и не оказывала определяющего влияния на ход развития японской литературы вплоть до революции Мэйдзи, но она уже указывала, в каком направлении двигалась японская мысль в недрах позднего средневековья. После буржуазной революции Япония за короткий срок смогла осуществить коренные преобразования страны потому, что они были подготовлены предыдущим развитием общественной мысли.
Если бы дело обстояло иначе, европейская литература не нашла бы столь мощного встречного течения в Японии сразу же после революции Мэйдзи. "Открытие" страны, в сущности, не было "насильственным", оно явилось результатом закономерного развития самой национальной жизни.
Новая японская литература не могла сложиться на базе развлекательной прозы "гэсаку" или дидактического романа XVIII - первой половины XIX века. Крупные сдвиги в японской общественной жизни, происшедшие после революции Мэйдзи, поставили японскую литературу перед необходимостью радикального обновления творческого метода, художественных форм и традиций. Этой потребностью в первую очередь и объясняется широкое обращение писателей к опыту европейских литератур.
Как воспринималась русская классика в Японии на этом начальном этапе литературных связей с Европой? Какими путями проникала русская литература на японские острова?
Обычно называют три "канала" ее распространения: Токийский институт иностранных языков, русская православная семинария в Японии и книжный магазин "Марудзэн" в Токио.
В начале 70-х годов прошлого столетия, когда был открыт Токийский институт иностранных языков, в Японии еще не было человека, который хотел бы посвятить себя изучению русской литературы, о ней еще не знали вовсе. Русский язык нужен был для изучения сильного северного соседа. Институт готовил будущих дипломатов и коммерсантов. Однако институт прославился не именами дипломатов, из его стен вышел выдающийся писатель Фтабатэй Симэй, которому суждено было стать основоположником новой японской литературы.
Большую роль сыграли русские преподаватели института. В "Исповеди за полжизни" Фтабатэй вспоминал: "Общеобразовательные предметы - физику, химию и математику, а также риторику, историю русской литературы нам преподавали по-русски. Профессор литературы так организовал занятие, что мы обязаны были читать лучшие произведения выдающихся представителей русской литературы"*. Этим профессором литературы был Николай Грей, русский эмигрант, живший в США. Обладая даром чтеца, он увлекал слушателей, вводя их в мир русских классиков. Затем требовал написать сочинение о прочитанном. Грей, вероятно, опирался на педагогическую методику В. Я. Стоюнина, стремившегося пробудить самостоятельную мысль ученика через анализ литературных произведений. В библиотеке института среди русских книг находилась и работа Стоюнина "О преподавании русской литературы".
* (Фтабатэй Симэй. Дзэнсю (Полн. собр. соч.), т. 10. Токио, 1953, с. 35.)
Одним из популяризаторов русской литературы в Японии был и И. Д. Касаткин, в течение почти полувека возглавлявший русскую духовную миссию в этой стране. Созданные им в 1873 г. Православная школа в Хакодате, а затем семинарии (мужская и женская) и катехизисные училища при русской духовной миссии в Токио превратились в очаги просвещения и стали проводниками русской культуры в Японии*. Касаткин всемерно поощрял публикацию русских классиков, на страницах выпускаемых русской православной миссией журналов "Сэйкё симпо" ("Православный вестник"), "Синкай" ("Море сердец"), "Уранисики" ("Скромность") печатались переводы из русской художественной литературы, статьи о ней. Из русской духовной семинарии вышли Кониси Масутаро, переведший вместе с Л. Толстым изречения Лаоцзы, Сэнума Какусабуро и его жена Сэнума Каё, Курода Отокити, Нобори Сёму, для которых переводы и изучение русской литературы стали делом всей жизни.
* (См.: Иванова Г. Д. Из истории русско-японских литературных связей (Деятельность первых русских ученых в Японии).- Япония. Ежегодник. 1982. М., 1983, с. 248.)
И, наконец, третий "канал" - книжный магазин "Марудзэн", основанный в 1868 году. Он был японским "окном в Европу", ввозил из-за рубежа книги на английском, французском, немецком и других европейских языках. Именно здесь весной 1889 года появились три экземпляра английского перевода "Преступления и наказания" Достоевского, попавшие в руки наиболее проницательных читателей того времени, ставших затем выдающимися деятелями новой японской литературы - Цубоути Сёё, Морита Сикэна, Утида Роана. Английские и французские переводы из русской классики играли роль "посредника", с них произведения русских писателей переводились на японский язык.
Первые книги русских писателей, переведенные на японский язык, были восприняты так же, как и ученая литература, в рамках общепросветительских интересов. И "Капитанская дочка" Пушкина в переводе Такасу Дзискэ (1883), и отрывки из романа "Война и мир" Толстого в переводе Мори Тая (1886) интересовали читателей главным образом с точки зрения быта и нравов европейцев, литературного влияния они тогда не имели. Переводы выполнялись в традиционно-риторическом стиле: "Сердце цветка и думы бабочки. Удивительные вести из России" - таково было заглавие пушкинской повести. В 1886 году перевод "Капитанской дочки" был переиздан и вышел под другим названием: "Сказание о Смите и Мэри. Русская любовная история".
В монографическом труде "Пушкин в Японии" (1984) А. И. Мамонов, предлагая иной перевод японского подзаголовка пушкинской повести - "История русской любви", пишет: "Это была не просто "русская любовная история", каких много, то есть одна из них, но история именно "русской любви", резко отличной от привычного представления читателей о своей японской любви"*.
* (Мамонов А. И. Пушкин в Японии. М., 1984, с. 165.)
Однако вряд ли японские читатели тех лет воспринимали "Капитанскую дочку" как историю именно "русской любви", имея в виду "истинно русские характеры". Такасу Дзискэ в предисловии к переводу "Капитанской дочки" пишет скорее об общности человеческой натуры: нет страстей сильнее чем любовные - ни на Западе, ни на Востоке. Тем не менее, сравнивая пушкинскую повесть с произведениями японских авторов "гэсаку" о легковесных и непристойных любовных похождениях, он пишет, что "европейские (а не конкретно русские. - К. Р.) любовные романы волнуют читателей глубиной изображения чувств влюбленных. Вот почему любовный роман пользуется там успехом"*. Пушкинская повесть, несомненно, воспринималась в Японии в плане общеевропейских культурных традиций, читатели тех лет были еще далеки от осмысления особенностей русского характера, именно "русской любви". Об этом говорит и само японское название пушкинской повести: в "русской любовной истории" действуют английские персонажи - Смит и Мэри.
* (Цит. по: Янагида Идзуми. Мэйдзи бункаку кэнкю (Исследование литературы периода Мэйдзи), т. 6. Токио, 1965, с. 292.)
Как выяснил исследователь Янагида Идзуми, подобное "англизирование" имен главных героев было делом рук цензора, трезво учитывавшего "соотношение сил" английской и русской литератур в Японии начала 80-х годов и внесшего соответствующие поправки "в пользу Англии" в текст перевода.
Пушкинская трагедия "Борис Годунов" в переводе Дзангэцу Ан, опубликованная в 1893-1895 годах, также не вызвала должного отклика в Японии.
Как интерпретировала смысл пушкинской трагедии японская критика тех лет? Сагоноя Омуро (н. и. Ядзаки Тинсабуро) в очерке "Капля в океане русской" литературы", напечатанном в 1894 году, то есть параллельно с публикацией японского перевода "Бориса Годунова", специально останавливается на разборе пушкинской трагедии: "Борис Годунов" - это "пьеса о судьбе вероломного захватчика власти, коварного, двуличного разбойника". Он "преступник, нарушивший закон Неба". "Всевышний карает зло злом - такова его воля"*. В этой "небесной каре за преступление, нарушившее закон Неба", японский критик усматривает сокровенный смысл пьесы. Не понял сути пушкинской трагедии и переводчик. Хотя он и пишет в послесловии к своему переводу, что стремился показать "образец русской драмы", но его интересовала главным образом интрига и авантюра Лжедмитрия**. Японское название пушкинской трагедии - "Лже-царевич" - уже само говорит о том, как воспринимал пьесу переводчик, что он считал в ней наиболее привлекательным для читателя.
* (Сигарами соси, 1894, май, с. 42-44.)
** (Уранисики, 1895, февраль, т. 3, с. 48.)
"Борис Годунов" в японском переводе печатался из номера в номер в журнале "Уранисики", выпускаемом русской православной миссией в Токио. Идея кары за убийство царевича, несомненно, была близка журналу; во всяком случае, центральная в трагедии "Борис Годунов" проблема отношения между народом и властью, решающей роли "мнения народного" не была замечена и осмыслена японской критикой тех лет*.
* (Журнал "Уранисики" был просветительским журналом для женщин. Он представлял женскую православную семинарию в Токио и имел довольно узкую читательскую аудиторию. Вряд ли можно объяснить обращение японского переводчика к пушкинской трагедии тем, что "именно растущая потребность общества в произведениях, пронизанных освободительным духом, обусловила и перевод первой исторической народной трагедии "Борис Годунов" (Мамонов А. И. Пушкинское наследие в Японии. - В кн.: Пушкин в странах зарубежного Востока. М., 1979, с. 103).)
В Японии, как и на Западе, Пушкина стали изучать по-настоящему гораздо позже: лишь в 1936-1937 годах выходит первое в стране Собрание сочинений Пушкина в пяти томах. Правда, в конце прошлого столетия переводили и стихи Пушкина, и поэму "Анджело" (1895), но его творчество было известно лишь узкому кругу японских читателей. В 1894 году в трех номерах журнала "Рикуго дзасси" был опубликован критико-биографический очерк "Русская литература и великий писатель Пушкин", в котором Кониси Масутаро, определяя место поэта в истории русской литературы, характеризует его творчество как итог старой и начало новой русской литературы. В своем реализме Пушкин пошел дальше Байрона, даже Шекспира, - пишет Кониси и заканчивает очерк цитатой из Тургенева: "Пушкин" - шесть букв означают для меня "учитель"*. Вероятно, Кониси не случайно обращается к авторитету Тургенева, который в то время пользовался огромной популярностью в Японии. Но и это не повлияло на публику.
* (Источник цитаты, приведенной японским автором якобы из высказывания Тургенева о Пушкине, не удалось обнаружить. В "Речи по поводу открытия памятника Пушкину в Москве" Тургенев говорил: "Это памятник - учителю" (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. в 28-ми томах, т. 15. М., 1968, с. 76).)
Причину непопулярности Пушкина в Японии обычно объясняют трудностью поэтического перевода на язык иной выразительной системы. Но, по-видимому, важнее учесть то обстоятельство, что в японской литературе XIX века происходит жанровое перемещение: на смену высокой поэзии, господствовавшей в течение веков, приходит "низкий" повествовательный жанр. Мнение японских просветителей, в том числе Фукудзава Юкити, о поэзии было единодушным: это не более как изящная безделушка. Хотя в 80-х годах в Японии и возникало движение за поэзию новой формы, но нельзя не признать, что эстетическим центром новой японской литературы стала проза. "По сравнению с возникшей в период Мэйдзи новой прозой, энергично завоевавшей широкие круги читателей, - констатировал виднейший поэт-романтик Симадзаки Тосон, - новая поэзия все еще была замкнута крайне узкой сферой, и людей, читающих ее, было очень мало". Даже драмы Шекспира переводили на первых порах в прозаическом переложении. Характерно, что японцы начали свое знакомство с творчеством как Пушкина, так и Лермонтова не с поэзии, а с прозаических произведений - "Капитанской дочки" и "Героя нашего времени" (перев. 1892 г.). Однотомник избранной поэзии Лермонтова выходит в Японии лишь в 1939 году.
Надо учесть, вероятно, и то обстоятельство, что движение японских поэтов-романтиков на рубеже двух столетий было целиком ориентировано на западную поэзию. Виднейшие его представители Китамура Тококу, Симадзаки Тосон увлекались и русской литературой, но-не Пушкиным или Лермонтовым, а зачитывались произведениями Тургенева, Достоевского и Толстого, которые в глазах читающей публики Японии тех лет представляли русскую литературу. Гениальность пушкинской прозы еще не была доступна тогдашнему японскому читателю.
Но как же объяснить тот факт, что в прошлом веке в Японии все-таки немало переводили Пушкина и писали о нем? В этой связи вспоминаются слова Фтабатэя Симэя: "Когда спрашиваем русских, что нужно читать из русской художественной литературы, - большинство из них рекомендуют Пушкина"*.
* (Фтабатэй Симэй. Дзэнсю, т. 9. Токио, 1953, с. 173.)
Действительно, в конце XIX века Пушкина переводили, о нем писали главным образом те японцы, которые общались с русскими преподавателями Токийского института иностранных языков или же учились в русской православной семинарии, - Кониси Масутаро, Нобори Сёму, Саганоя Омуро и др. Их работы в основном печатали православный журнал "Уранисики" и католический журнал "Рикуго дзасси", которые не имели выхода на широкую публику. Наследие Пушкина было воспринято далеко не в такой мере, в какой оно этого заслуживает.
|
ПОИСК:
|

© NIPPON-HISTORY.RU, 2013-2020
При использовании материалов обязательна установка ссылки:
http://nippon-history.ru/ 'Nippon-History.ru: История Японии'
При использовании материалов обязательна установка ссылки:
http://nippon-history.ru/ 'Nippon-History.ru: История Японии'